Ася Бродоцкая: «Язык — это мировоззрение»
«То, как устроен язык, на котором мы говорим и думаем, определяет наше поведение, наше отношение к окружающим, нашу картину мира. Через язык видно, что важно для культуры, а что — нет»
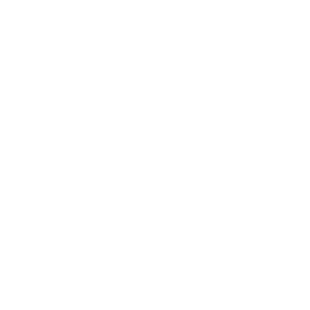
На весеннюю смену в Израиле мы не могли не пригласить постоянного и любимого лектора «Марабу» — лингвистку и переводчицу Асю Бродоцкую. Расспросили Асю об эмодзи, о том, что язык может рассказать о нас, и об искусственных языках — почему они появляются, кто их создает и как они работают.
«Марабу»: Тема израильской смены — «Знаки и символы», и она вам явно близка: все ваши курсы в «Марабу» так или иначе крутятся вокруг нее. А как она меняется от смены к смене?
Ася Бродоцкая: Да, я люблю рассказывать о разных сторонах языка, лингвистики, перевода — вообще обо всем, чем занимаюсь. В этот раз будем буквально препарировать языки: говорить о том, как они устроены, что в них бывает. Этим занимается моя любимая наука типология — она описывает особенности языковых систем разных народов, а еще помогает разобраться, с чего начать, когда моделируешь новый язык: что взять в основу, что важно для передачи смысла, а что — лишнее. В общем, будем разбирать этот часовой механизм. На мой взгляд, это как раз ближе всего к языку как к знаковой системе.
«М.»: А с чего же нужно начинать, моделируя новый язык?
А. Б.: Во-первых, надо понять, зачем этот язык вообще нужен. Например, чтобы наладить межнациональное общение — это случай эсперанто. Или язык, который в письменном виде будет понятен огромной группе носителей — такой сейчас разрабатывают в проекте Interslavic, это межславянский язык. (Интересно, что им занимаются люди, сами не говорящие на славянских языках — они смотрят на систему извне.)
Еще можно придумывать язык вымышленного народа, и об этом у нас будет отдельная лекция: языки в литературе, кино, сериалах. Конечно, человек, который непосредственно поставил сочинение новых языков в литературе на профессиональные рельсы и стал основоположником этого движения — это Толкин. Его метод заключался в том, что сначала он строил язык и лишь потом придумывал, какой народ может его использовать. Но обычно все делают наоборот: сначала создают народ, а потом язык для него. Я много переводила фантастику, фэнтези — часто автор просто набрасывает сочетание букв, даже не задумываясь о системе. Обычно, если герой положительный, язык звучит мелодично, если отрицательный — грубо. Яркий пример - языки из мира Толкина: сравним хотя бы «А Элберет Гилтониэль», начало эльфийской песни, и «Аш назг гурбатулук», надпись на кольце всевластья на «черном наречии» Саурона. Но все же есть очень достойные примеры, когда структуру языка продумывают основательно, связывают ее с жизнью и культурой. Такие случаи мы и будем разбирать.
«М.»: Ваш курс называется «Человек — знаковая система». А что вообще язык говорит о нас?
А. Б.: С моей точки зрения — все. То, как устроен язык, на котором мы говорим и думаем, определяет наше поведение, наше отношение к окружающим, нашу картину мира. Лингвистика и культурология сходятся именно здесь: язык — это мировоззрение. Через язык видно, что важно для культуры, а что — нет, какие отношения она строит с миром. Язык определяет все.
На курсе мы поговорим и о мировоззрении русскоязычного человека. Хороший пример есть у известной лингвистки Анны Вежбицкой. Она говорит о том, что в русском языке по сравнению с тем же английским иначе устроена система залогов. В английском залоги выражены четко и пассив встречается гораздо чаще, чем в русском, потому что важны отношения деятеля с действием. Если человека ударила молния, англичанин скажет: «Peter was killed by lightning», для них он главный герой. Русский же скажет: «Петра убило молнией». И в этой неопределенной по своей сути конструкции будет преклонение перед высшими силами, ощущение фатальности. Таких примеров немало, и если наблюдать внимательно, многое становится понятным.
Или, скажем, любопытно пронаблюдать, как различаются устойчивые формулировки в немецком языке в Германии и Австрии: хотя это один язык, предписания и запреты в общественном пространстве этих стран формулируются по-разному. Скажем, там, где в Германии будет написано «Не шуметь» или «Соблюдать тишину», в Австрии напишут “Пожалуйста, не шумите» или даже, пусть и в шутку, «Bitte psst!» (такую табличку я видела своими глазами). Это тоже интересно проанализировать.
«М.»: Вы упомянули эсперанто, этот язык — тоже один из героев курса, как и волапюк. Почему одни искусственные языки остаются и приживаются, а другие быстро умирают?
А. Б.: Все дело в продуманности и практичности. Если автор понимает, зачем создает язык, и выбирает удачные инструменты — получается жизнеспособная система. Эсперанто — очень удачный пример: на нем легко выражать базовые смыслы, он красиво звучит для целевой аудитории, легко членится, легко записывается, содержит знакомые корни. Потому и прижился.
Другой удачный пример — современный иврит, и про него мы, разумеется, тоже будем говорить. Я про себя зову его «язык зомби»: он был абсолютно мертвым, но стал абсолютно живым. Иврит — очень интересный лингвистический эксперимент. Он быстро развивается, при этом сами носители выучили его в основном во взрослом возрасте — таких примеров крайне мало. Синтаксис иврита меняется в зависимости от того, кто на нем говорит, а новые слова проникают в него из разных языков, обрастают ивритскими окончаниями и начинают жить новой полноценной жизнью.
Или, например, токипона: совсем новенький язык, созданный канадской лингвисткой и переводчицей Соней Ланг. Цель токипоны — выразить максимум смыслов при помощи наименьшего количества знаков и символов. В этом языке всего несколько десятков корней, так что «Илиаду» или Библию на токипоне не напишешь, но для бытового общения этого хватает выше крыши.
«М.»: У нас как будто уже есть универсальный язык символов — эмодзи.
А. Б.: Да, эмодзи — любопытная штука, но я бы не сказала, что это язык. К тому же далеко не всем они даются легко. Визуалам они понятны, а вот аудиалам — сложнее. Люди иногда специально учатся, чтобы научиться писать на эмодзи, особенно для общения с детьми, но часто это выглядит неестественно. Это не совсем такой язык, к которому мы привыкли. Он прекрасен, но пока что слишком необычен. Эмодзи сами по себе лишь дополняют смыслы, но не выражают их, зато позволяют точно передать эмоции в письменном общении — а это ценнейшая вещь.
«М.»: Но все равно невозможно создать язык, который объединил бы всех?
А. Б.: Конечно, нет. Мы слишком разные: у нас разные цели, разные представления о том, что такое «красиво» и «понятно». Для одних иврит звучит прекрасно, для других — ужасно. Кто-то любит петь на немецком, а кто-то терпеть не может русскую фонетику. Это вкусовщина, зависящая от среды, в которой человек вырос. Универсального языка не будет, может быть только удобный для большинства. Например, современный упрощенный английский: минимальная грамматика, много коротких слов — это вполне реально выучить. Так что удачные языки есть, и на них говорит много людей, они хорошо развиваются. Законы эволюции здесь работают прекрасно! Как сказала одна моя знакомая биолог, Дарвина не зря придумали. Выживают наиболее приспособленные: люди, звери, языки, архитектурные решения, курсы «Марабу».
«М.»: Вернемся к эмодзи. Можно ли их назвать дальними родственниками письменных символов древности, клинописи, петроглифов?
А. Б.: С большой натяжкой. Эмодзи гораздо более систематизированы. Знаки иероглифического письма очень быстро упрощались и обрастали новыми смыслами. Иероглифы превращались в абстрактные символы, буквы, слоговое письмо, а эмодзи возникли именно для быстрой передачи эмоций: вместо «мне грустно» — эмодзи со слезой, вместо «сочувствую» — эмодзи-обнимашки. Это просто и легко, а еще ни к чему не обязывает: написать «Я тебя обнимаю» пока еще значит намного больше, чем поставить эмодзи. Они заполнили очень хорошую нишу, но не похожи на письменность древних. У них другая цель.
«М.»: Современный цифровой язык с его бесконечными переписками, «злыми точками» и отсутствием голосового общения — это отдельная история?
А. Б.: Да, это отдельная большая тема, она в курсе не поместится, но я о ней много думала. Переход в онлайн завершился в пандемию, плюс сейчас мы все разбросаны по миру, и переписываться оказалось проще, чем говорить. Я сама люблю подумать над формулировкой, а уже потом писать, и таких, как я, — много. Все меньше становится людей, которым “проще голосом”, это скорее экзотика. Я думаю, что мы боимся контакта, и те же эмодзи — часть новых мер предосторожности. Это новая культура, новый этикет, отдельное явление, и оно совершенно не связано с живым бытованием языка, с литературой, официальными СМИ или рекламой.
По сути, у нас без целенаправленных усилий родился новый язык. Но так они и рождаются в естественных условиях — бескровно и без болей, в процессе общения. За этим очень увлекательно наблюдать — и бесполезно сопротивляться. Эволюция все равно победит.
Ася Бродоцкая: Да, я люблю рассказывать о разных сторонах языка, лингвистики, перевода — вообще обо всем, чем занимаюсь. В этот раз будем буквально препарировать языки: говорить о том, как они устроены, что в них бывает. Этим занимается моя любимая наука типология — она описывает особенности языковых систем разных народов, а еще помогает разобраться, с чего начать, когда моделируешь новый язык: что взять в основу, что важно для передачи смысла, а что — лишнее. В общем, будем разбирать этот часовой механизм. На мой взгляд, это как раз ближе всего к языку как к знаковой системе.
«М.»: А с чего же нужно начинать, моделируя новый язык?
А. Б.: Во-первых, надо понять, зачем этот язык вообще нужен. Например, чтобы наладить межнациональное общение — это случай эсперанто. Или язык, который в письменном виде будет понятен огромной группе носителей — такой сейчас разрабатывают в проекте Interslavic, это межславянский язык. (Интересно, что им занимаются люди, сами не говорящие на славянских языках — они смотрят на систему извне.)
Еще можно придумывать язык вымышленного народа, и об этом у нас будет отдельная лекция: языки в литературе, кино, сериалах. Конечно, человек, который непосредственно поставил сочинение новых языков в литературе на профессиональные рельсы и стал основоположником этого движения — это Толкин. Его метод заключался в том, что сначала он строил язык и лишь потом придумывал, какой народ может его использовать. Но обычно все делают наоборот: сначала создают народ, а потом язык для него. Я много переводила фантастику, фэнтези — часто автор просто набрасывает сочетание букв, даже не задумываясь о системе. Обычно, если герой положительный, язык звучит мелодично, если отрицательный — грубо. Яркий пример - языки из мира Толкина: сравним хотя бы «А Элберет Гилтониэль», начало эльфийской песни, и «Аш назг гурбатулук», надпись на кольце всевластья на «черном наречии» Саурона. Но все же есть очень достойные примеры, когда структуру языка продумывают основательно, связывают ее с жизнью и культурой. Такие случаи мы и будем разбирать.
«М.»: Ваш курс называется «Человек — знаковая система». А что вообще язык говорит о нас?
А. Б.: С моей точки зрения — все. То, как устроен язык, на котором мы говорим и думаем, определяет наше поведение, наше отношение к окружающим, нашу картину мира. Лингвистика и культурология сходятся именно здесь: язык — это мировоззрение. Через язык видно, что важно для культуры, а что — нет, какие отношения она строит с миром. Язык определяет все.
На курсе мы поговорим и о мировоззрении русскоязычного человека. Хороший пример есть у известной лингвистки Анны Вежбицкой. Она говорит о том, что в русском языке по сравнению с тем же английским иначе устроена система залогов. В английском залоги выражены четко и пассив встречается гораздо чаще, чем в русском, потому что важны отношения деятеля с действием. Если человека ударила молния, англичанин скажет: «Peter was killed by lightning», для них он главный герой. Русский же скажет: «Петра убило молнией». И в этой неопределенной по своей сути конструкции будет преклонение перед высшими силами, ощущение фатальности. Таких примеров немало, и если наблюдать внимательно, многое становится понятным.
Или, скажем, любопытно пронаблюдать, как различаются устойчивые формулировки в немецком языке в Германии и Австрии: хотя это один язык, предписания и запреты в общественном пространстве этих стран формулируются по-разному. Скажем, там, где в Германии будет написано «Не шуметь» или «Соблюдать тишину», в Австрии напишут “Пожалуйста, не шумите» или даже, пусть и в шутку, «Bitte psst!» (такую табличку я видела своими глазами). Это тоже интересно проанализировать.
«М.»: Вы упомянули эсперанто, этот язык — тоже один из героев курса, как и волапюк. Почему одни искусственные языки остаются и приживаются, а другие быстро умирают?
А. Б.: Все дело в продуманности и практичности. Если автор понимает, зачем создает язык, и выбирает удачные инструменты — получается жизнеспособная система. Эсперанто — очень удачный пример: на нем легко выражать базовые смыслы, он красиво звучит для целевой аудитории, легко членится, легко записывается, содержит знакомые корни. Потому и прижился.
Другой удачный пример — современный иврит, и про него мы, разумеется, тоже будем говорить. Я про себя зову его «язык зомби»: он был абсолютно мертвым, но стал абсолютно живым. Иврит — очень интересный лингвистический эксперимент. Он быстро развивается, при этом сами носители выучили его в основном во взрослом возрасте — таких примеров крайне мало. Синтаксис иврита меняется в зависимости от того, кто на нем говорит, а новые слова проникают в него из разных языков, обрастают ивритскими окончаниями и начинают жить новой полноценной жизнью.
Или, например, токипона: совсем новенький язык, созданный канадской лингвисткой и переводчицей Соней Ланг. Цель токипоны — выразить максимум смыслов при помощи наименьшего количества знаков и символов. В этом языке всего несколько десятков корней, так что «Илиаду» или Библию на токипоне не напишешь, но для бытового общения этого хватает выше крыши.
«М.»: У нас как будто уже есть универсальный язык символов — эмодзи.
А. Б.: Да, эмодзи — любопытная штука, но я бы не сказала, что это язык. К тому же далеко не всем они даются легко. Визуалам они понятны, а вот аудиалам — сложнее. Люди иногда специально учатся, чтобы научиться писать на эмодзи, особенно для общения с детьми, но часто это выглядит неестественно. Это не совсем такой язык, к которому мы привыкли. Он прекрасен, но пока что слишком необычен. Эмодзи сами по себе лишь дополняют смыслы, но не выражают их, зато позволяют точно передать эмоции в письменном общении — а это ценнейшая вещь.
«М.»: Но все равно невозможно создать язык, который объединил бы всех?
А. Б.: Конечно, нет. Мы слишком разные: у нас разные цели, разные представления о том, что такое «красиво» и «понятно». Для одних иврит звучит прекрасно, для других — ужасно. Кто-то любит петь на немецком, а кто-то терпеть не может русскую фонетику. Это вкусовщина, зависящая от среды, в которой человек вырос. Универсального языка не будет, может быть только удобный для большинства. Например, современный упрощенный английский: минимальная грамматика, много коротких слов — это вполне реально выучить. Так что удачные языки есть, и на них говорит много людей, они хорошо развиваются. Законы эволюции здесь работают прекрасно! Как сказала одна моя знакомая биолог, Дарвина не зря придумали. Выживают наиболее приспособленные: люди, звери, языки, архитектурные решения, курсы «Марабу».
«М.»: Вернемся к эмодзи. Можно ли их назвать дальними родственниками письменных символов древности, клинописи, петроглифов?
А. Б.: С большой натяжкой. Эмодзи гораздо более систематизированы. Знаки иероглифического письма очень быстро упрощались и обрастали новыми смыслами. Иероглифы превращались в абстрактные символы, буквы, слоговое письмо, а эмодзи возникли именно для быстрой передачи эмоций: вместо «мне грустно» — эмодзи со слезой, вместо «сочувствую» — эмодзи-обнимашки. Это просто и легко, а еще ни к чему не обязывает: написать «Я тебя обнимаю» пока еще значит намного больше, чем поставить эмодзи. Они заполнили очень хорошую нишу, но не похожи на письменность древних. У них другая цель.
«М.»: Современный цифровой язык с его бесконечными переписками, «злыми точками» и отсутствием голосового общения — это отдельная история?
А. Б.: Да, это отдельная большая тема, она в курсе не поместится, но я о ней много думала. Переход в онлайн завершился в пандемию, плюс сейчас мы все разбросаны по миру, и переписываться оказалось проще, чем говорить. Я сама люблю подумать над формулировкой, а уже потом писать, и таких, как я, — много. Все меньше становится людей, которым “проще голосом”, это скорее экзотика. Я думаю, что мы боимся контакта, и те же эмодзи — часть новых мер предосторожности. Это новая культура, новый этикет, отдельное явление, и оно совершенно не связано с живым бытованием языка, с литературой, официальными СМИ или рекламой.
По сути, у нас без целенаправленных усилий родился новый язык. Но так они и рождаются в естественных условиях — бескровно и без болей, в процессе общения. За этим очень увлекательно наблюдать — и бесполезно сопротивляться. Эволюция все равно победит.
Курс «Человек — знаковая система. Как мы придумываем языки».
Почти все мы хотя бы раз в жизни задумывались о том, как было бы здорово придумать собственный язык. Но с чего начать? Для чего нужны искусственные языки? Как они устроены, как правильно их придумывать и кто этим занимается? Почему эсперанто живет и процветает, а волапюк почти забыт? Кто и зачем пишет оперы на клингонском и стихи на эльфийском? Обо всем этом мы и будем разговаривать — а заодно больше узнаем о естественных языках и познакомимся с последними достижениями эволюционной лингвистики и культурологии.
Почти все мы хотя бы раз в жизни задумывались о том, как было бы здорово придумать собственный язык. Но с чего начать? Для чего нужны искусственные языки? Как они устроены, как правильно их придумывать и кто этим занимается? Почему эсперанто живет и процветает, а волапюк почти забыт? Кто и зачем пишет оперы на клингонском и стихи на эльфийском? Обо всем этом мы и будем разговаривать — а заодно больше узнаем о естественных языках и познакомимся с последними достижениями эволюционной лингвистики и культурологии.
Заявка
лагерь Марабу • 10 – 14 лет
Израиль • 27 марта — 3 апреля
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Вопрос
лагерь Марабу • 10 – 14 лет
Израиль • 27 марта — 3 апреля
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности


